- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Оценка заключения эксперта
Пока эксперт в зале суда один, он неуязвим, хотя бы говорил вздор. Дайте ему противника – речения оракула превратятся в самолюбивый спор (П. Сергеич).
В учебниках по криминалистике и уголовному процессу, в методических пособиях следователям и судьям рекомендуется при оценке заключения эксперта как источника доказательств исходить из оценки компетенции эксперта, производившего экспертное исследование, современного уровня примененных методов исследования, полноты, логической и научной обоснованности выводов эксперта и т.д.
Возникает вопрос: в чем причины подобной практики? Только ли в прагматичном подходе к оценке заключения, когда обращается внимание на те части заключения, которые прямо, непосредственно “идут в дело”, т.е. используются в системе доказательств по делу, или причины в другом – в сложности процесса оценки этого источника доказательств, а может быть, и в невозможности такой оценки в соответствии с декларированными критериями?
По нашему убеждению, следователь и суд, как правило, в состоянии оценить лишь полноту заключения эксперта, проверив, на все ли поставленные вопросы даны ответы, и уяснив характер этих ответов. Могут они оценить и соблюдение экспертом необходимых процессуальных требований, и наличие у заключения всех требуемых реквизитов. Таким образом, оценка заключения эксперта следователем и судом оказывается формальной процедурой, никак не затрагивающей оценку содержания самого заключения.
Орган, назначивший экспертизу, не в состоянии оценить ни научную обоснованность выводов эксперта, ни правильность выбора и применения им методов исследования, ни соответствие этих методов современным достижениям соответствующей области знания, поскольку для такой оценки этот орган должен обладать теми же познаниями, что и эксперт.
Более того, существующая форма экспертного заключения не позволяет оценить даже компетентность эксперта, проводившего исследование, поскольку содержит указания лишь на характер образования и стаж работы эксперта. Но ни первое, ни второе еще не свидетельствует о том, что он достаточно профессионально решил именно эту экспертную задачу: о компетентности эксперта в вопросах конкретного экспертного задания судить по этим данным достаточно обоснованно невозможно.
Впервые с подобной ситуацией судопроизводство столкнулось в середине XIX в. в связи с развитием судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Разрешить эту ситуацию должна была, по мнению немецкого процессуалиста К. Миттермайера, концепция эксперта – научного судьи, согласно которой заключение эксперта должно приниматься за истину и не подлежать оценке.
Он писал: “Чтобы установить правильное понятие о доказательстве через экспертизу, нужно, прежде всего, отказаться от взгляда на нее как на свидетельское показание или вид личного осмотра. Все подобные аналогии ведут только к заблуждениям на практике. Очевидно, на экспертизу нужно смотреть как на особый вид уголовных доказательств, во многом похожий на косвенное доказательство или улики, так как и там, и здесь дело сводится к целому ряду умозаключений…
Исходным пунктом должна быть мысль, что сущность этого доказательства состоит в мнениях, высказываемых сведущими людьми по предметам их специальности”. Достоверность экспертизы, по мнению Миттермайера, выясняется только путем исследования, “есть ли в эксперте условия, ручающиеся за правильность его мнения?
Судья определяет, есть ли ручательства за правильность мнения эксперта:
- в его личности;
- в его желании говорить истину, без обращения внимания на последствия его мнения для кого бы то ни было, самостоятельно, вне всяких влияний;
- в его свойствах, ручающихся за правильность сделанного наблюдения и правдивую передачу результатов последнего;
- в его знаниях и опыте;
- в самом способе изложения экспертизы, укрепляющем в слушателях убеждение, что она – результат спокойного, беспристрастного и основательного исследования”.
В России концепцию К. Миттермайера поддержал, правда с известными оговорками, Л.Е. Владимиров.
Свои взгляды он выразил в следующих положениях:
- Экспертиза – не доказательство. Эксперты – это judices facti, судьи факта, “решающие фактические вопросы, которые, подобно преюдициальным, обусловливают решение всего дела”. Он писал: “…есть ли экспертиза доказательство вообще? Слово “доказательство” употребляется нами здесь в техническом смысле… В обширном смысле, экспертиза, конечно, доказательство, потому что подтверждает же она или отрицает что-либо. Но в таком обширном значении и судейский приговор – доказательство. Однако, ясно, что о таких доказательствах здесь не может быть и речи. Мы здесь имеем дело с системою уголовных доказательств”.
- Сведущие лица подразделяются на научных экспертов и справочных свидетелей. Последние основывают свои заключения на опытности в каком-либо ремесле, занятии или промысле. “Справочными свидетелями, – писал Л.Е. Владимиров, – мы назвали этот род экспертов для того, чтобы провести различие между научными экспертами и теми сведущими лицами, которые дают из области своего опыта сведения, освещающие некоторые стороны уголовных дел. Суд, вооружившись этими сведениями, справками, самостоятельно затем решает возникший вопрос. Он не подчиняется здесь авторитету мотивов заключения… он имеет перед собой истолкователей, дающих ему справки и сведения, необходимые для решения возникшего вопроса”. В отличие от научных экспертов, справочные свидетели допрашиваются, как и иные свидетели, они должны обладать всеми качествами достоверных свидетелей.
- Для того чтобы научный эксперт мог выполнять свои функции научного судьи, судьи факта, ему следует предоставлять возможность знакомиться со всеми обстоятельствами дела, участвовать в допросах и осмотрах как на предварительном следствии, так и в суде.
Отечественная процессуальная наука отвергла теорию эксперта – научного судьи, как несущую на себе печать теории формальных доказательств. Однако аргументы в пользу возможности полноценной оценки следователем и судом заключения эксперта, теоретическая модель такой оценки весьма далеки от жизни, от реальной следственной и судебной практики.
По данным Г.В. Парамоновой, при оценке следователем заключения эксперта типичными являются следующие недостатки:
- Следователь сопоставляет выводы эксперта с другими материалами дела, не сравнивая их с иными частями заключения (например, не сопоставляются вопросы с полученными выводами, хотя иногда в заключении даны ответы не на все вопросы).
- Допускаются ссылки на вероятные выводы экспертов как на доказательство, подтверждающее тот или иной факт (хотя использование их как категорических может привести к искажению фактически имевших место обстоятельств).
- Заключение эксперта недостаточно используется в доказывании, не находит должного отражения в обвинительном заключении. Часто следователи только ограничиваются упоминанием о заключении эксперта, но не указывают, какой конкретно факт им доказывается.
- Следователь назначает дополнительные экспертизы, хотя ряд вопросов, не требующих дополнительных исследований, можно было бы выяснить путем допроса эксперта, который разъяснил бы выводы.
Эти и другие ошибки проистекают из непонимания следователем (не обладающим специальными познаниями, требуемыми для адекватной оценки заключения эксперта по существу) содержания самого экспертного заключения и, как следствие, формального подхода к его оценке.
В то же время экспертное заключение – несомненно, один из “материалов дела”, и для помощи в его оценке вполне может быть привлечен специалист. Также обладая необходимыми специальными знаниями, он вполне способен оценить не столько формальное соответствие экспертного заключения процессуальным правилам, сколько содержание заключения и обоснованность его выводов.
Практика давно пошла по этому пути; но при этом специалист оказывается “главнее” эксперта, что навряд ли однозначно правильно. Думается, что следует в законе четко определить те критерии, которыми следователь и суд должны руководствоваться при оценке экспертных заключений, причем критерии реальные и общедоступные, и обусловить порядок использования в этих целях помощи (консультаций и заключений) независимых специалистов, призываемых именно для оценки заключений экспертов.
Е.Р. Россинская справедливо указывает, что специалист может быть привлечен и при назначении судебной экспертизы.
Конкретная помощь, которую он способен оказать, связана, например:
- с указанием на невозможность решения данного вопроса (например, из-за отсутствия экспертной методики);
- с указанием на непригодность объектов для экспертного исследования (что очевидно только лицу, обладающему специальными знаниями);
- с указанием на ошибки в собирании (обнаружении, фиксации, изъятии) объектов, могущих стать впоследствии вещественными доказательствами (ошибки могут быть связаны с неиспользованием или неправильным использованием технико-криминалистических средств и методов собирания тех или иных следов, особенно микрообъектов);
- с определением рода или вида судебной экспертизы (что напрямую связано в дальнейшем с выбором экспертного учреждения или кандидатуры эксперта);
- с указанием на материалы, которые необходимо предоставить в распоряжение эксперта (например, протоколы осмотра места происшествия и некоторых вещественных доказательств, схемы, планы, документы, полученные при выемке, и пр.).
Оценка экспертного заключения тесно связана с назначением дополнительной и/или повторной экспертизы; но вопрос об основаниях для назначения такой экспертизы также разрешен в действующем законодательстве недостаточно четко.
УПК РФ предусматривает назначение дополнительной экспертизы при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а повторной – в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения или противоречий в выводах (ст. 207 УПК). Однако следователь или суд, не обладая специальными познаниями в соответствующей проблемной области, не всегда в состоянии квалифицированно судить о правильности или неправильности заключения эксперта.
Выходом из создавшегося положения может быть идея мета-экспертизы, уже довольно широко применяемая на практике. Заключение эксперта само рассматривается как объект исследования, проводимого (обычно по инициативе одной из сторон) специалистом, обладающим познаниями в соответствующей области.
Такое исследование не является ни дополнительной, ни повторной экспертизой, ибо не рассматривает исходных материалов первичной экспертизы, а отвечает на вопросы, насколько адекватны методы, использованные экспертом, насколько обоснованны сделанные выводы, можно ли указать на допущенные экспертом ошибки и пр.
В качестве основных вопросов, рассматриваемых специалистом, привлекаемым для такой мета-экспертизы, Е.Р. Россинская указывает:
- пригодность представленных вещественных доказательств и сравнительных образцов для исследования;
- достаточность (с точки зрения используемых экспертных методик) имеющихся объектов и образцов для дачи заключения;
- методы, использованные при производстве судебной экспертизы, оборудование, с помощью которого реализованы эти методы (обеспечен ли метрологический контроль и поверка оборудования, его юстировка и калибровка);
- научную обоснованность экспертной методики, граничные условия ее применения, допустимость применения избранной методики в данном конкретном случае.
Заключение такого специалиста, являясь полноценным источником доказательств, может в существенной степени способствовать адекватной и объективной оценке экспертного заключения.
Статьи по теме
- Фактор внезапности, его учет и использование в доказывании
- Тактические приемы работы с доказательствами
- Концептуальные основы тактики следственных действий
- Тактика следственного судебного действия
- Соотношение и связь процессуального и тактического аспектов доказывания
- Реализация в доказывании положений теории криминалистической идентификации
- Реализация в доказывании положений криминалистического учения о розыске
- Реализация в доказывании положений учения о криминалистической регистрации
- Реализация в доказывании положений теории криминалистического прогнозирования
Полезные статьи







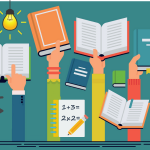

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

